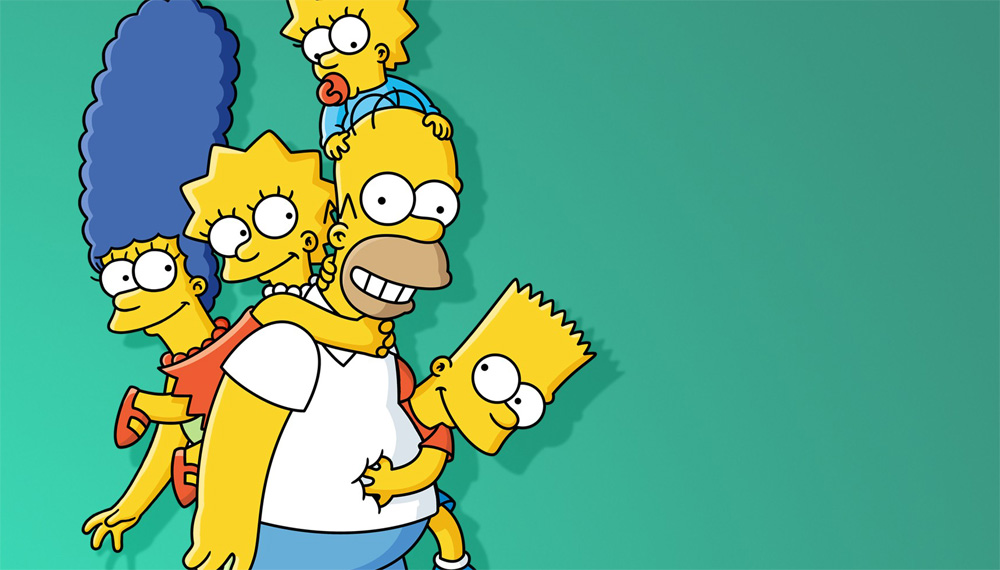Жизнь после смерти как лингвистическая ловушка
 Цель статьи — провести анализ, высвечивающий сущность одной интеллектуальной ловушки. В эту ловушку нас ловит наша собственная манера абстракции, выраженная в структуре языка. Также разбираются системы ложных конструктов, следующие из заблуждений такого рода. Представим себе человека, который бежит. Словосочетание «человек бежит» имеет два отдельных терма…
Цель статьи — провести анализ, высвечивающий сущность одной интеллектуальной ловушки. В эту ловушку нас ловит наша собственная манера абстракции, выраженная в структуре языка. Также разбираются системы ложных конструктов, следующие из заблуждений такого рода. Представим себе человека, который бежит. Словосочетание «человек бежит» имеет два отдельных терма… Витгенштейн писал, что «тот факт, что мир есть мой мир, проявляется в том, что границы языка (единственного языка, который понимаю я) означают границы моего мира» [1]. Под языком здесь имеется в виду язык логики, общий для всех распространённых сейчас естественных языков, по крайней мере в тех обществах, где математика и логика достаточно развиты, чтобы получить в естественных языках этих обществ своё отражение. В том числе, стало быть, и русский язык. Но ни один естественный язык, существующий на сегодняшний день, не имеет внутри себя механизмов лингвистического, формального отделения логически истинных выражений от логически ложных.
Витгенштейн писал, что «тот факт, что мир есть мой мир, проявляется в том, что границы языка (единственного языка, который понимаю я) означают границы моего мира» [1]. Под языком здесь имеется в виду язык логики, общий для всех распространённых сейчас естественных языков, по крайней мере в тех обществах, где математика и логика достаточно развиты, чтобы получить в естественных языках этих обществ своё отражение. В том числе, стало быть, и русский язык. Но ни один естественный язык, существующий на сегодняшний день, не имеет внутри себя механизмов лингвистического, формального отделения логически истинных выражений от логически ложных.
Если ваш собеседник говорит «после смерти я взойду на небо и меня будут там ласкать ангелы», это означает, что он может помыслить небо, ангелов и смерть, а значит и ввести их в собственный мир. Но небо может не оказаться той синевой, которая над вашими общими головами, а некоей внутренней метафорой этого человека, словом-обманкой первого рода. Ангелы могут оказаться не существами, данными в ощущениях (как скажем дано в ощущениях небо в его естественном смысле), а плодом культурологического дискурса воспитания, в том числе и религиозного воспитания этого человека, то есть словом-обманкой второго рода.
И наконец «смерть» может оказаться словом, фактическое проявление которого вы понимаете одинаково, и которое вам обоим может быть дано в естественном опыте (можно сказать даже сильнее — это обязательный для вас обоих опыт), но которое для вашего собеседника внутренне является атрибутом состояния, а не процесса, то есть словом-обманкой третьего рода. Далее мы поговорим как раз об этом роде самообмана, который, собственно, и порождает метафорическое небо с метафорическими ангелами в поддавшемся ему сознании.
Давайте сразу обрисуем контуры этой ловушки, чтобы они стали ясны. Представим себе человека, который бежит. Словосочетание «человек бежит» имеет два отдельных терма — терм «человек» и терм «бег». Но, на самом деле, «бегущий человек» это единый процесс, который далее может перейти, например, в «стоящего человека» или даже в «упавшего и задыхающегося человека». Наш язык разделяет два этих терма и позволяет далее мыслить отдельно «человека» как «человека вообще» и отдельно «бег» как «бег вообще». Уотс, например, весьма язвительно высказывается на тему абстракции человека как субъекта от процесса, в который человек вовлечён: «Если мы можем говорить о постройке как о ‘строении’, о крыше как о ‘покрытии’, а о кресле как о ‘сидении’, почему мы не можем представить себе человека как ‘человеченье’, голову как ‘головление’, а муравья как ‘муравьение’?» [2]
Впрочем, если мы вдумаемся, то гораздо более коварной является абстракция «бега». Потому что отделив «бег», являющийся атрибутом процесса в отдельный терм-существительное, мы принимаем его экзистенциальность. А потому дальше можем уже говорить (и думать), например, о «беге времени», что формально является абсурдом, потому что время никак не может находится в процессе «ходьбы», «стояния» или «бега». Но, раз мы можем помыслить «бег времени», далее мы можем помыслить и «остановку времени» (ведь из чувственного опыта, мы ясно видим, что любому процессу бега сопутствует процесс остановки) ну и так далее — единожды допустив ошибку, мы получаем целые пласты иллюзорных конструктов, которые можно разбирать до бесконечности — это занятие может быть интересным, но оно совершенно точно бессмысленно.
Именно в эту ловушку мы и попадаем, когда характеризуем своё существование как «жизнь человека». Отделение «жизни» от «человека» это такое общее место в культуре, что люди даже специально придумали слово «душа», обозначающее именно это — процесс жизни, выделенный в объект, наделённый собственным существованием. При этом напластование формально ложных разделений здесь ещё более занятное, чем в рассмотренном выше «беге». Приведу простой пример: отделяя в объекты «жизнь» от «человека» или «животного» и «течение» от «воды» или «реки», мы можем далее построить абсурдное сочетание второго порядка: «течение жизни». Это ложь в квадрате — мало того что жизнь никуда не течёт, так она ещё и не существует сама по себе, чтобы куда-то течь.
Рассмотрите с этих позиций фразу «Плавное течение его жизни было сокрушительно прервано наплывом безрассудных страстей», являющуюся уже даже не венцом, а просто музейным экспонатом абсурда. Заметьте — несмотря на логическую бессодержательность, эта конструкция тем не менее имеет содержательный смысл за счёт инерции языка, перетекающей в инерцию мышления. Будучи так небрежно развиваем, язык приходит в состояние, когда по меткому выражению Галковского, «на нём уже нельзя разговаривать — можно только недоговаривать или проговариваться» [3].
Ну и разумеется, с отделённой таким образом душой, мы можем «после смерти» делать всё что вздумается. Тем более, что культура традиционно связывает с душой личность человека, его «я», возникает возможность как раз той самой обманки третьего порядка «после смерти, я …». То, что после смерти всякое «я» заканчивается, людей, употребляющих эту и подобные этой фразы, уже не смущает. В некотором смысле, лингвистическое отделение смерти от личности это и есть предпосылка и секрет всяческой «вечной жизни», практически в любой религии, где это понятие вводится таким образом. Последователь этой религии получает какую-то странную и очень сомнительную вечность — будучи отделён от собственной жизни и собственной смерти, он переходит в то положение, где действительно не остаётся ничего кроме «вечного блаженства» или «вечной муки» или «вечного покоя», в любом случае — статичности, прекращения перемен, прекращения продолжающегося бытия. И, что самое печальное, в это положение переходит даже не он, потому что он-то всё равно, будучи живым человеком, является ограниченным во времени процессом, а его отшелушённый грамматический конструкт. Удивительно, что некоторые на полном серьёзе готовы ставить свечки, лишь бы так оно и было. Как будто для несуществующего конструкта существует разница между «вечным блаженством» и «вечными муками».
Интересно, что верное понимание смерти как процесса а не как состояния было характерно для классической даосской философии, в частности Чжуан-Цзы пишет, что «смерть и жизнь — как один поток, а возможное и невозможное — как бусинки на одной нити» [4]. Может быть поэтому даосы и не особенно надеялись на посмертие, стараясь достигать максимально продолжительной и осознанной жизни, а в идеале — осознанного бессмертия, непосредственно в теле. Они понимали, что с прекращением тела прекратятся как процесс, а значит далее просто не о чем говорить.
Подытожить всё могла бы классическая формула Мальро, повторенная Сартром [5], согласно которой смерть — это то, что «превращает жизнь в судьбу». Эта формула содержит в себе прекрасное философское осмысление и завершает определение смерти как атрибута процесса, вынося её даже вне процесса «человечения». Смерть по Сартру это то, что делает из «жизни человека» «судьбу человека», то есть оператор, переводящий процесс в процесс, подобно тому как в математике неопределённое интегрирование действительной функции это оператор, переводящий её в другую действительную функцию.
Конечно, это всё гораздо скучнее, чем ласкающие тебя на небе ангелы 🙂
Константин Владимиров, Тула, 2010
Связь с автором: konstantin.vladimirov@gmail.com
Источники:
[1] Витгенштейн Л. Логико-философский трактат — М.: Наука, 1958
[2] Уотс А. Книга о табу на знание о том, кто ты есть, — София, 1995
[3] Галковский Д. Бесконечный тупик, — самиздат, 1997
[4] Ян Чжу, Ле Цзы, Чжуан-Цзы — СПб.: Лань, 1994
[5] Сартр Ж.-П. Бытие и ничто (Извлечения)//Человек и его ценности. Ч.1. — М., 1988