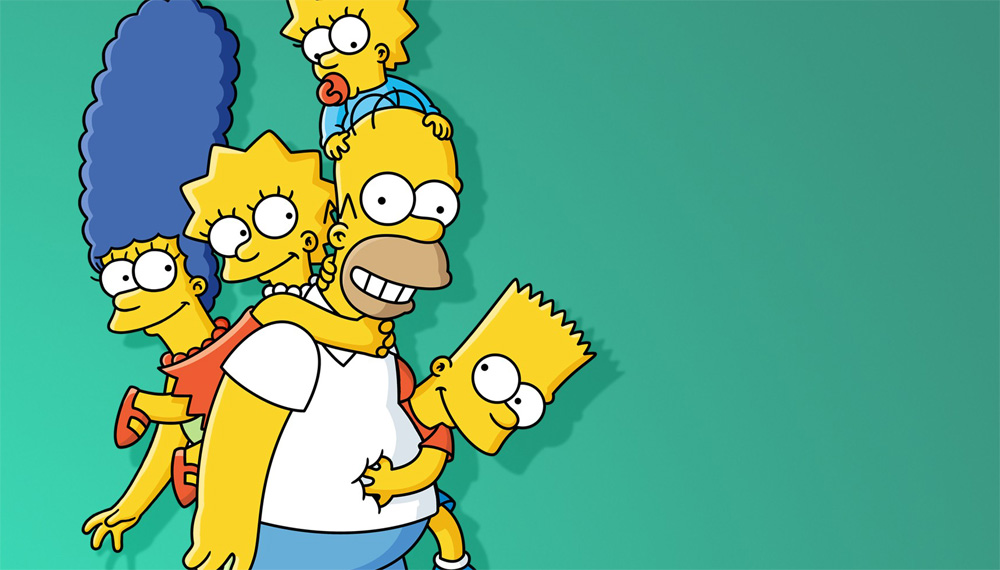То, о чем не сказал Хичкок, но уже давно подумал Юнг
Ни для кого не секрет, что в постсовременную эпоху кинематограф переживает процесс ремифологизации, а вторичное мифостроительство напрямую определяет кассовый сбор. Таковы фильмы ужасов, которые делятся на две категории, каждая из которых обладает своей модальностью воздействия, ориентированной на определенную социально-этническую группу.Ни для кого не секрет, что в постсовременную эпоху кинематограф переживает процесс ремифологизации, а вторичное мифостроительство напрямую определяет кассовый сбор. Таковы фильмы ужасов, которые делятся на две категории, каждая из которых обладает своей модальностью воздействия, ориентированной на определенную социально-этническую группу. Первая, по сути, представляет собой спазматическое реагирование на неприемлемые в западноцентристском обществе аспекты реальности, такие как грязь, кровь, нечистоты, трупное разложение, телесные выделения, обезображенные тела или фрагменты тел. Фобия грязной крови, например, настолько прочно угнездилась в европейском сознании, что до сих пор вызывает рябь на поверхности социальной жизни – от отвращения к инъекционным наркоманам до устойчивого сочетания образов грязи и крови и превращения этого странного союза в литературно-кинематографическое клише
Если воспользоваться конкретными примерами для иллюстрации, то лучше всего подойдет повторяющаяся во множестве вариаций сцена в стиле «хорор»: женщина (скорее всего, молодая), открывает дверь комнаты, включает свет и… кричит. Крик – это ее эмоциональная реакция на то, что она видит, на нечто ужасное: кровь, труп, нечто пузырящееся и желевидное, с щупальцами и присосками, отвратительное с любой эстетической и этической позиции для этого типа женщин («как живущая своей жуткой жизнью фраза» — возможно, сказала бы одна из таких арктических дам). Примеров, где содержится подобный мотив, мотив «уязвленной чистоты», достаточно: более того, шок брутальной визуальности встречается и в других жанрах голливудской индустрии.
Голливуд здесь – не отсылка к реально существующей кинематографической монопольной индустрии, а тому типу фильмов, которые в повседневных речевых практиках называют прилагательным «голливудский». Несмотря на очевидную абсурдность столь широкой в семантическом смысле категории, ведь массовая кинопродукция прошла многоэтапную эволюцию, изменялись художественные приемы, ракурс съемки, позиция режиссера по отношению к зрителю и т.д. и т.д. (одной из черт, молчаливо подразумеваемых под «голливудским», является массовость), сам факт употребления данного выражения вынуждает нас признать за этим словом слепок с действительно актуальной характеристики. Сегодня следует отказаться от мысли, что подобные фильмы останутся за некой спасительной чертой, что с течением времени разделяет нетленную классику (типа авторского кино, на мой взгляд, по большей части, довольно скучного) и попсовые, тиражируемые сериями, исключительно развлекательные фильмы; «голливудский» тип кинематографических произведений занимает место образца, а «классическое» кино наоборот, уходит в периферию.
Эту периферию не следует понимать в смысле географическом, поскольку ее место уже занято. Вторым, не менее распространенным, но базирующемся на других культурных архетипах мотивом является инфернальный подросток женского пола (например, «Звонок» и «Проклятие»). Насчет возраста удивляться не приходится – в большинстве азиатских культур (ареал возникновения и распространения связанных с данной фигурой сюжетов), девочка-подросток является сексуальным фетишем, помогающим самураю расслабиться, поскольку только она не является для него угрозой в этом полном опасностей мире.
Представляя собой пример абсолютной трансгрессии, этот персонаж объединяет в себе же два начала: сумасшествие и женственность, принадлежащие, однако, к одному полюсу – хтонического. В большинстве фильмов, содержащих в себе подобный образ, он предстает неразрывно связанным с водой (она появляется в ванной, из колодца, в котором умерла и т.д.). Здесь следует вспомнить, что архаические представления о женском начале, как, впрочем, и о любом другом, были насквозь метафоричны: земля – влагалище – вода – пещера – могила – земля. Так же, как из земли произрастает брошенное туда зерно, в женщине зреет семя, а курган воспроизводит живот роженицы, из которой усопший родится вновь. Не зря во многих народных традициях смерть в воде считалась страшнее любой другой, а утопленников выделяли среди других покойников – неестественность состояния человека, умершего в родовых водах земли, там, где получают рождение, ощущалась и подчеркивалась, и, возможно, эпоху неомифологизма, этот пласт коллективного бессознательного активизировался вновь.
К слову, Богиня-мать скифов, исходя из реконструкций их мифологии, была владычицей подземных вод. Как видим, устойчивые ассоциативные связи между женщиной и телесным низом, влагой, рождением и смертью в полной мере отразились в образе девочки-убийцы. Лишь возрождающий аспект женской природы очутился здесь «в пролете» – она оказалась закольцована на самой себе, сохраняя один и тот же возраст, что, собственно, и завораживает зрителя. Так музыкальный трек, повторяя одну и туже вариацию музыкального мотива, оказывает на нас гипнотическое действие.
Причин подобного положения вещей, по крайней мере, две: с одной стороны, в традиционных обществах менструирующая женщина-подросток являла собою источник опасности, подобно тому, как закат в кастанедовском дискурсе был трещиной между мирами (оттенок красного в обоих случаях не случаен). С другой стороны, упоминаемая выше зависимость мужчин, населяющих территории, прилегающие к Тихому океану (написав это словосочетание, я попутно поразился тому, сколь редко оно встречается), от девочки-массажистки, умелыми и плавными движениями разносящей чай и оказывающей сексуальные услуги приводит к подобной забавной фобии: единственный в данном культурном дискурсе персонаж, способный дать усталому воину почувствовать себя в безопасности, взбесился и сошел с ума (достигшая критической отметки иррациональность женского) – есть от чего испытать ужас.
Провоцируя эмоциональный отклик зрителей рецессивными реакциями и патологическими образами, режиссеры выводят социальные фобии на широкоэкранный формат, создавая, тем самым, прецедент их нормативного закрепления в качестве устойчивых комплексов неотрефлектированных представлений, из которых, по большей части, и состоит внутрипсихический мир потребителя. Однако терапевтический аспект осмысленного освоения культурного поля подобного рода неоспорим – от осознания пагубности отторжения любого из аспектов реальности, каким бы омерзительным бы он нам не казался, до… и после…
Руслан Кулешов